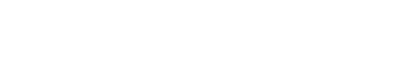— Как вы оцениваете сегодняшнее состояние книжного рынка? Во время своего выступления на форуме еврейской культуры и знаний «Мэасеф» вы сказали, что наблюдаете интерес читателей к поэзии.
— Поэзия сегодня в рынок не очень встроена. Она издается, конечно, все можно найти. Но я сформировался в другой среде, поэтому литературный рынок всегда проходил мимо. Советский аналог рынка — это официальная издательская стратегия, к которой мы, я имею в виду компанию моих приятелей, не имеем никакого отношения. Я довольно много издаюсь, но не ощущаю себя встроенным в рынок. По крайней мере, свои книжки ни в малейшей степени не рассматриваю как бизнес. Это приносит мне больше моральной радости. Однако знаю некоторое количество авторов, которые вполне неплохо себя ощущают и живут на тиражах.
Получается, нельзя говорить, что книжный рынок не приносит прибыль, а сама книга умирает?
Нет, конечно, нет. Эти разговоры так же стары, как разговоры про смерть искусства. Они идут с конца девятнадцатого века: «конец литературы», «смерть автора» и так далее. На самом деле все нормально. Просто меняются какие-то акценты, какие-то потоки.
— Как меняется сам читатель?
— Я думаю, меняется конфигурация его образа. В семидесятые годы, когда я существовал внутри андеграундного искусства, читателей было очень мало. Были годы, когда я всех своих читателей знал по именам. Это были самые лучшие люди, ради которых имело смысл стараться. Я никогда не рассматривал читателя как понятие статистическое. И до сих пор, кстати, мне все равно, сколько людей меня читают.
— А вообще книги больше читают?
— Нет, читать больше не стали. Если говорить не о литературе, а о средствах массовой информации, легче провести наблюдения. С середины восьмидесятых был бум толстых литературных журналов. Я и в советские годы газет в руках не держал, а тут вдруг все стали их покупать. В девяностые мне было интереснее читать литературную критику, чем саму литературу. Газетное писательство ангажировало много талантливых, образованных людей, которые в силу социально-экономических обстоятельств не могли себя реализовать в той области, в которой они получали образование. И все они пошли в журналистику, потому что это было пространство, где были и деньги, и читатели, и интерес. Сейчас, мне кажется, главный нерв литературного творчества переселился в социальные сети. Мне как читателю больше всего интересно читать фейсбук.
— Потому что не нужно ждать, пока автор напишет целую книгу?
— Именно. Да, там огромное количество сумасшедших, графоманов, негодяев, для которых это единственный способ проявить свое негодяйство и наговорить всяких гадостей. Но все вместе они рисуют картину современного мира. А задача любой литературы — как раз эту современность описывать. Фейсбук читаю по диагонали, обнаружить в этом потоке что-то важное и, не побоюсь этого слова, драгоценное — очень интересная задача.
— Публикации в фейсбуке во многом похожи на ваш перфоманс с карточками*, это тот же принцип фрагментарности.
Я согласен с этим. Именно поэтому я так легко и естественно вошел в интернет, освоил его жанры. В середине девяностых я выступал перед студентами какого-то немецкого университета. Одна юная барышня спросила: «Как на вашу творческую манеру повлиял интернет?» Я в те годы вообще не умел пользоваться компьютером, только это слово знал. И решил отшутиться, ответил, что это я повлиял на интернет. И в каком-то смысле это так, я неосознанно писал посты.
— Кстати, по диагонали читают не только социальные сети.
— Я сторонник медленного чтения. Читать быстро хорошо для усвоения информации. Но если так читать огромный массив словесности, особенно поэзию, ничего не поймешь. Художественную литературу нужно читать медленно или не читать вообще.
Многие жалуются, что выросло целое поколение, наделенное клиповым сознанием, не способное воспринимать текст длиннее абзаца. Здесь у меня нет рецепта. Значит, будет видоизменяться сама литература. Все-таки литература существует для читателя, а не читатель для нее.
— Будет подстраиваться под новое поколение?
Да, будет вынуждена. Огромное количество людей просто не умеет понимать текст. Я все время это замечаю, даже по реакции на собственные тексты, которые кто-то комментирует. Человек реагирует только на ключевые слова, вылавливает их и спорит с ними, но не видит, в каком контексте эти слова использованы. Мне однажды жаловался, как ни странно, школьный учитель математики. Говорит: «Дети совершенно не могут воспринимать текст». Казалось бы, при чем здесь текст, когда это математика? Оказалось, дети не понимают даже условия задач.
— Растет тяга к искусству вообще?
— Я пока этого не наблюдаю, но гипотетически да, растет. Когда широкие массы начинают сильно интересоваться искусством, это значит, что общество стагнирует, политика становится жестче. В этом смысле мне показалась тревожным звоночком невероятная очередь на Серова.
— Недавно молодой московский художник Никита Клен, открывший выставку своих работ в Калининграде, предполагал, что на Серова пришли потому, что выставку посетил президент.
— Скорее наоборот, очередь стояла еще раньше. Я всегда был сторонником того, что власть должна оставить искусство в покое. У нас же государство начинает интересоваться искусством потому, что хочет, чтобы искусство его обслуживало. В советские годы власть тоже очень интересовалось искусством, раздавала государственные премии. Но из лауреатов Сталинской премии мы с вами лично теперь не помним ни одного имени.
— Интерес к искусству, идеологический отдел, который недавно предложили воссоздать в Госдуме, — можем ли мы говорить о возвращении к советскому времени?
— Все, что сегодня повторяется, повторяется не на буквальном, а на символическом, даже метафорическом уровне. Во всем происходящем мы можем наблюдать глубокий кризис содержания — форма есть, а содержания нет. На телевидении, в обществе, на государственном уровне сегодня происходит то, что Маяковский описал: «Улица корчится безъязыкая, ей нечем кричать и разговаривать».
— Фантаст Ник Перумов говорил, что сегодня российские писатели за границей воспринимаются как авторы второго сорта, дословно «аутсайдеры».
— Есть некоторое количество авторов, художников, музыкантов, которые, по-моему, вполне достойно вписаны в международный контекст. Я не читал книг Перумова, может быть, это ему самому не повезло, людям ведь свойственно обобщать собственный опыт. У меня никогда не было больших амбиций на этот счет, и какой я за границей сорт — второй, пятый или десятый — мне не интересно.
— Ваше поколение много и активно уезжало из страны. Вы не уехали.
— Эмиграция всегда означает серьезный отрыв от языка. Я чувствовал, что язык писателей, которые уехали, консервируется. В древние времена скульптору нужно было жить там, где он добывал глину. У меня такое же отношение к языку — он здесь, и я здесь.
* Больше двадцати лет Лев Рубинштейн выступает с «картотекой». Исполняя свои стихи, он держал в руках стопку библиографических карточек, на каждой из которых была написана одна строка или фраза.